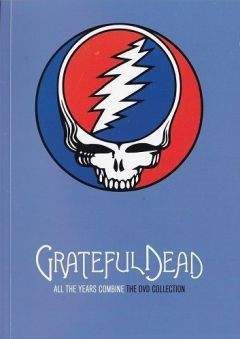– Она думает, тебя можно спасти.
– А ты так не думаешь?
– Я не думаю, что ты хочешь быть спасенным.
Я встал и подошел к окошку. Олень вернулся. Когда я заметил его утром, то почувствовал облегчение. Волк. Их ведь уничтожили в Норвегии, верно?
– Мой дед проектировал церкви, – сказал я. – Он был архитектором. Но он не верил в Бога. Он считал, что когда мы умираем, то умираем совсем. Я больше верю в это.
– Он и в Иисуса не верил?
– Раз он не верил в Бога, вряд ли он верил в Божьего Сына, Кнут.
– Понимаю.
– Ты понимаешь. И что дальше?
– И тогда он будет гореть.
Я хмыкнул:
– В таком случае он уже давненько горит: он умер, когда мне было девятнадцать. А тебе не кажется, что это немного несправедливо? Бассе был хорошим человеком, он помогал людям, нуждавшимся в помощи, а этого я не могу сказать о многих знакомых мне христианах. И если бы я мог быть хоть вполовину так хорош, как мой дедушка…
Я заморгал. Глаза жгло, в них мелькали белые точки. Неужели это все солнце, пытающееся прожечь дыру в моей роговице? Неужели посреди лета у меня начнется снежная слепота?
– Мой дедушка говорит, что добрые поступки не помогают, Ульф. Твой дедушка сейчас горит, и скоро наступит твоя очередь.
– Хм. Значит, ты утверждаешь, что если я пойду на это собрание и приму Иисуса и этого твоего Лестадиуса, то попаду в рай, даже если никогда ничем не помогу ни одной живой душе?
Мальчишка почесал рыжую шевелюру:
– Да-а-а-а. Во всяком случае, если ты примешь учение Лингена.
– А что, существуют разные учения?
– Есть младоперворожденные в Альте, люндбергианцы в Южном Тромсе, старые лестадианцы в Америке и…
– И все они будут гореть?
– Так говорит дедушка.
– Судя по всему, в раю будет просторно. А ты не думал, что если бы мы с тобой поменялись дедушками, то ты наверняка был бы атеистом, а я лестадианцем? И тогда гореть предстояло бы тебе?
– Может быть. Но к счастью, гореть будешь ты, Ульф.
Я вздохнул. В здешних местах было что-то первозданное. Словно ничего не должно было и не могло произойти, словно неизменность была естественной.
– Слушай, Ульф…
– Да?
– Ты скучаешь по папе?
– Нет.
Кнут застыл:
– Он что, не был хорошим?
– Думаю, был. Но дети хорошо умеют забывать.
– А так можно? – тихо спросил он. – Не скучать по папе?
Я посмотрел на него:
– Думаю, да.
И зевнул. Плечо болело. Мне надо было выпить.
– Ты правда совсем один, Ульф? У тебя совсем никого нет?
Я задумался. Мне и в самом деле пришлось задуматься. О господи.
Я покачал головой.
– Угадай, о ком я думаю, Ульф.
– О папе и дедушке?
– Нет, – ответил он. – Я думаю о Ристиинне.
Я не стал спрашивать, как я мог это угадать. Мой язык был похож на высохшую губку, но выпить можно будет только после того, как он выговорится и уйдет. Он даже принес мне сдачу.
– И кто такая эта Ристиинна?
– Она учится в пятом классе. У нее длинные золотистые волосы. Она в летнем лагере в Каутокейно. На самом деле мы тоже должны были быть там.
– Что это за лагерь?
– Лагерь как лагерь.
– И что вы там делаете?
– Мы, дети, играем. Когда нет встреч и проповедей, конечно. Но в этот раз Рогер спросит у Ристиинны, хочет ли она стать его девушкой. И может быть, они поцелуются.
– Значит, целоваться – это не грех?
Кнут склонил голову набок и прищурил один глаз:
– Я не знаю. Перед тем как она уехала, я сказал, что люблю ее.
– Любишь, вот так прямо?
– Да. – Он подался вперед и, глядя вдаль, прошептал с придыханием: – «Я люблю тебя, Ристиинна». – Мальчишка снова посмотрел на меня. – Это было ошибкой?
Я улыбнулся:
– Ни в коем случае. Что она ответила?
– «Вот как».
– Она ответила «вот как»?
– Да. Как думаешь, что это значит, Ульф?
– Ну, как сказать. Конечно, это может значить, что для нее это чересчур. «Люблю» – очень сильное слово. Но это может означать, что она подумает над твоими словами.
– Считаешь, у меня есть шанс?
– Безусловно.
– Несмотря на то, что у меня есть шрам?
– Что еще за шрам?
Он отлепил пластырь ото лба. На бледном кусочке кожи все еще виднелись следы швов.
– Что случилось?
– Упал на лестнице.
– Скажи ей, что ты бодался с оленем, что вы боролись за территорию. И что ты, разумеется, победил.
– Ты спятил? Она ни за что не поверит!
– Ну да, потому что это всего лишь шутка. Девчонки любят мальчишек, которые умеют шутить.
Он почесал верхнюю губу:
– Ты сейчас не врешь, Ульф?
– Послушай. Даже если у тебя не будет шансов именно с этой Ристиинной именно этим летом, то будут другие Ристиинны и другие лета. У тебя будет полно девчонок.
– Почему?
– Почему?
Я измерил его взглядом. Кажется, он низковат для своего возраста? По сравнению с ростом мозгов у него было много. Рыжие волосы и веснушки, возможно, не будут достоинствами в глазах дам, но ведь это мода, которая приходит и уходит.
– Ну, если ты спрашиваешь меня, то я бы сказал, что ты – ответ Финнмарка на Мика Джаггера.
– Чего-о?
– На Джеймса Бонда.
Он непонимающе уставился на меня.
– На Пола Маккартни? – сделал я еще одну попытку.
Реакции не было.
– Битлз. «She loves you, yeah-yeah-yeah».
– Не очень-то из тебя хороший певец, Ульф.
– Это точно. – Я открыл топку печи, сунул в нее влажную тряпку и натер мокрым пеплом блестящий прицел на винтовке. – А почему ты не в летнем лагере?
– Папа на ловле сайды, мы должны его дождаться.
Что-то случилось, какая-то морщинка в уголке губ, что-то не так. Что-то, о чем я решил не спрашивать. Я посмотрел на прицел. Теперь, надеюсь, он не будет отражать солнечные лучи, и когда они придут, то не поймут, что я лежу и целюсь в них.
– Давай выйдем на улицу, – предложил я.
Ветер сдул комаров, и мы сели на солнышке у стены. Когда мы показались, олень отошел подальше. Кнут захватил с собой нож и веточку и тут же начал ее строгать.
– Ульф, а Ульф…
– Тебе не обязательно произносить мое имя всякий раз, когда ты захочешь что-нибудь спросить.
– Хорошо, но, Ульф…
– Да?
– Ты потом напьешься в стельку?
– Нет, – соврал я.
– Хорошо.
– Ты беспокоишься обо мне?
– Просто мне кажется глупым, что ты попадешь в ад и будешь…
– …гореть в огне?
Он рассмеялся, поднял веточку и начал насвистывать.
– Ульф…
Я удрученно вздохнул.
– Ты что, ограбил банк? – спросил он.
– С какой такой стати ты это решил?
– Ты носишь с собой большие деньги.
Я вынул пачку сигарет и повертел ее в руках.
– Путешествовать дорого, – сказал я. – И у меня нет чековой книжки.
– И пистолет в кармане.
Я покосился на него, пытаясь прикурить сигарету, но ветер не давал пламени разгореться. Значит, мальчишка проверил мои карманы, перед тем как разбудить меня в церкви.
– Если у тебя есть наличные и нет чековой книжки, надо быть осторожным.
– Ульф…
– Да?
– Врешь ты тоже не особенно хорошо.
Я рассмеялся и спросил:
– А чем будет эта веточка?
– Румпелем, – ответил он, продолжая строгать.
С уходом мальчишки стало спокойнее. Ясное дело. Но я чувствовал, что не стал бы возражать, даже если бы он побыл подольше. Он неплохо меня развлекал, этого у него не отнимешь.
Я сидел в полудреме. Сощурившись, я увидел, что олень снова подошел ближе, наверное, уже привык ко мне. Он казался таким одиноким. Обычно думают, что в это время года олени жирные, но этот был тощим. Тощим, серым, с бесполезно большими рогами, которые в свое время наверняка привлекали к нему самок, а теперь только мешали.
Олень подошел так близко, что я слышал, как он жует. Он поднял голову и посмотрел на меня. Олени плохо видят, зато хорошо чуют. Он принюхивался ко мне.
Я закрыл глаза.
Сколько же времени прошло с тех пор? Два года? Год? Парня, которого мне предстояло устранить, звали Густаво. Я нанес удар ранним утром. Он жил один в маленьком, всеми забытом домике, затерявшемся между большими имениями в районе Хумансбюен. Ночью выпал свежий снег, однако днем обещали потепление, и, помнится, я подумал, что мои следы растают.
Я позвонил в дверь и, как только он открыл, приставил пистолет к его лбу. Он стал пятиться, я шел за ним. Я закрыл за нами дверь. Пахло куревом и подгоревшим жиром. Рыбак рассказывал, как недавно обнаружил, что один из его постоянных сотрудников, уличный дилер Густаво, утаивает деньги и наркоту. Моим заданием было застрелить его, вот так просто. И если бы я сделал это там и тогда, все сложилось бы иначе. Но я совершил две ошибки: я посмотрел ему в лицо и позволил ему говорить.
– Ты меня сейчас застрелишь?
– Да, – сказал я, вместо того чтобы выстрелить.